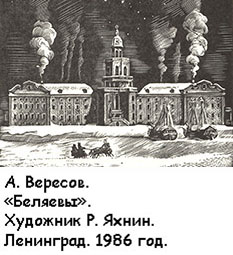- 4 -
А. Вересов.
"Огненная потеха".
Художник Р. Яхнин.

Они были друзьями. Но спорили постоянною с ожесточением и гневом, почти с ненавистью. Расставались, полные вражды. Потом скучали один без другого, искали встречи. Мирились, чтобы тут же снова поссориться.
Степан Буженинов – из именитой знати, спесивец, но природно сметлив. Василий Корчмин – не богат, в трудные минуты привык полагаться лишь на себя, любитель до всего доходить своим умом и все делать своими руками.
Оба – солдаты, а затем сержанты петровской гвардии, оба – из «волонтеров», ездивших за рубеж учиться воинским премудростям.
Тогда-то, в неметчине, и началась их дружба. В городе Берлине они осваивали фортификацию и артиллерию, в дни присыла денег из Москвы знатно погуливали в харчевнях, а потом неделями голодали, перебивались с хлеба на воду. От невкусного немецкого «брота» сводило животы.
Василий Корчмин переносил голодуху легко. Был жаден к науке. Впитывал все новое, любопытное, полезное в будущем. Буженинов страдал от недоедания, брюзжал, глядел волчонком, из-за пустяков бросался в драку.
Степану приходилось трудно. На родном языке едва читал по складам, а немецкого не знал вовсе. Как тут заниматься высокими науками? Непостижимо. И все-таки Буженинов, к удивлению товарищей, что-то «кумекал» и в алгебре, и в баллистике, и в геометрии. Учился он из великого страха перед суковатой дубинкой Петра Михайлова, сиречь царя всея Руси.
О заграничном житье-бытье Василий Корчмин писал царю Петру в Россию:
«Мы с Стенькою Бужениновым, благодаря богу, по 20 марта выучили фейерверк и всю артиллерию; ныне учим тригиометрию. Мастер наш (лейтенант артиллерии) человек добрый, знает много и нам указывает хорошо; только нам в том не полюбился, что просит с нас за ученье денег, а без платы перестал было и учить: просит с человека хотя по 100 талерей. Пожалуй, батка наш, прикажи об мастере ведомость учинить… Изволишь писать, чтобы я уведомил, как Степан, не учась грамоте, гиометрию выучил, и я про то не ведаю. Бог и слепцы просвещает».
На родине «волонтеров» ждал тяжкий ратный труд. Начиналась великая Северная война. Россия воевала за древние русские земли, почти сто лет назад отнятые сильным северным соседом – Швецией, воевала за выход к морю.
Василий и Степан дрались плечом к плечу, не жалея себя, с храбростью и бесстрашием. Отступали под Нарвой, по горящим лестницам взбирались на стены Нотебурга – Орешка, рыли пороховые коридоры к Ниеншанцу, закладывали первые камни Санкт-Петербурга в березовой роще на маленьком продолговатом островке Люст-Елант.
За плечами Копорье и Гренгам, Выборг и Полтава. Почти два десятка боевых лет за плечами. В маленьком финском городке Ништадте собрались послы гордой сломленной Швеции и юношески могучей России. Война еще идет на последних рубежах. Речь ведется о мире.
Двадцать лет прибавили седины в усах петровских солдат. Но годы не изменили характера друзей. Один по-прежнему шумлив, запальчив, не любит ни над чем задумываться. Другой спокойно рассудителен, во всем старается постичь коренную суть.
И не странно ли? Безграмотный Буженинов достиг гораздо большего в жизни. Умелый устроитель ассамблей, то, что называется рубаха-парень, он в чинах, на видной и прибыльной должности коменданта Орешка – Шлиссельбурга.
Корчмин на пирушках теряется, ему бы поскорей удрать из этого чада, подальше от галдежа. Он – Петров любимец. Но вспоминают о нем, когда нужно сделать некую трудную работу: перестроить ли укрепления Кремля, опробовать новые пушки или удивить мир небывалым по мощи и красоте фейерверком. Корчмин – признанный знаток артиллерии. У него – слава первого русского военного инженера. А он, как и раньше, любит колдовать у верстака и горна. Взвешивает составы на аптекарских весах. Смотрит на свет пробирки с гремучей смесью.
Степану он отнюдь не завидует. Дворцовые успехи Корчмину просто-напросто ни к чему…
Вместе со своим неизменным подручным Андрюшей Лебедевым он работает в мастерской на песчаном речном берегу, далеко за чертой города. Андрюше, бомбардиру-преображенцу, лет за сорок. Корчмин зовет его уменьшительным именем по привычке. Знает его с нотебургской баталии, когда он был безусым, необстрелянным юнцом.
Мастерская – старая банька на краю села, поблизости от Усть-Ижорского саперного лагеря. Здесь, на отшибе, хозяйничают фейерверкеры. Посторонние, возчики или солдаты, заглядывают сюда с опаской. Не приведи боже зайти в мастерскую с трубкой в зубах. Корчмин взашей вытолкает. Да что трубка. Велит сапоги снимать на пороге: дескать, подкова либо железный гвоздь могут искру выбить, и тогда беды не оберешься…
Возле бывшей баньки в клетях, врытых в землю, порох в кожаных мешках. Здесь пробуют начинку для мортир. Пробуют и «потешные огни». Для того выбирают вечера потемнее. Фейерверкеры с горящим дрючком бегают от станка к станку. Только и слышны их голоса:
- Пали! Пускай!
В небе расцветает такая красота, что рассказать о ней трудно. Недолго, считанные минуты пламенеет она, а люди запоминают ее на всю жизнь. Полюбоваться огнями сбегаются к Неве солдаты из лагеря, рыбаки с невских топей, крестьяне из ближних сел.
Как понять им гнев и отчаяние Корчмина, который, сжав кулаки, кричит Андрюше:
- Дымит, трещит, а блеску мало. Негоже! Негоже!
Бомбардир теребит усы, смущенно оправдывается, будто он во всем виноват:
- Оплошка вышла, Василь Дмитрич… А ежели селитры добавить?
Они возвращаются в мастерскую. На столе, грубо сколоченном из нетесаных досок, лежат чертежи, рисунки, листы с расчетами. На некоторых росчерк самого Петра: Piter.
При взгляде на этот росчерк Корчмин тотчас представляет себе капитана бомбардирской роты, его оттопыренные усы над маленьким красным ртом, одутловатые щеки, бешеные глаза.
- Василий! – кричит Петр. – Удиви весь честной мир! Вот какой фейерверк надобен. Пусть увидят Россию в веселии!
Василий Дмитриевич знает. Что «огненная потеха» - страсть Петра. И помнит, как однажды государь ответил на замечание некоего иноземного посла, не пустая ли забава фейерверк.
- Почитаю оный весьма нужным, - твердо произнес Петр, - ибо через увеселительные огни могу приучать своих подданных к военному пламени и их в оном упражнять, поелику и приметил из опыта, что тем менее страшимся военного пламени, чем более привыкаем обходиться с увеселительными огнями.
Василий Дмитриевич присутствовал при этом разговоре и с любопытством наблюдал озадаченное лицо посла. Он не знал, как отнестись к сказанному, - не тонкая ли это шутка? Но посол так и не посмел улыбнуться. Россия уверенно шла к победе над могущественнейшей державой в Европе. И между прочим, давно уже никто не мог сравниться с русскими фейерверками в смелости и мастерстве рисунка, вскинутого в небо.
У боевого огня и огня потешного один отец – порох. Нет народа, владеющего большими запасами пороха, чем московиты…
Опытный артиллерист Корчмин считал ракеты отнюдь не забавой, а делом серьезнейшим. В русской армии уже не первый век умеют пользоваться ими, вначале – ракетами-стрелами. Василий Дмитриевич впервые прочел о ракетах и о том, как их делать в «Уставе ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки». А написал тот устав пушечный мастер Онисим Михайлов ровнешенько сто лет назад.
Совсем недавно Василий Дмитриевич обучал гвардейских бомбардиров, как пускать однофунтовую сигнальную ракету. Она поднималась на высоту более версты, и ее огонь могла видеть армия на огромном расстоянии. Это был огонь-приказ: наступать, громить врага.
Андрюша Лебедев частенько припоминал свой первый разговор с Корчминым о ракетах.
Бомбардир никак не мог понять, почему все-таки «эта штуковина» летит с быстротой молнии. Тогда Василий Дмитриевич дал ему ружье и велел:
- Стреляй!
Лебедев по артикулу поднял ружье, прижал ложе к плечу, нашел цель.
Прогремел выстрел. Приклад сильно ударил в плечо. Лебедев едва устоял на ногах. А Корчмин радовался:
- Понял, еловая голова, что тебя стукнуло? Отдача! Эта сила и ракету двигает.
С тех пор «еловая голова» стал преданным помощником Корчмина. Другим помощником был Степан Буженинов.
В ракетном деле Буженинова вначале интересовало совсем иное. Сам Петр составлял программу фейерверков. В такой работе участвовать лестно. Не худо и государю лишний раз на глаза попасть.
Должно быть, у Корчмина был талант увлекать людей делом, которым сам увлечен. Степан часто приезжал в мастерскую на Неве. Едва выдастся свободный день, седлает своего породистого рыжего аргамака, мчится к другу. Прискачет весь в пыли, еще с седла орет:
- Василь, я тута! Показывай, чего надоть на твоей чертовой кухне делать? Вот увидишь, будут тебя, кудесника, в аду серой жечь!
Снимал мундир. Входил в мастерскую, пригибаясь.
Корчмин отлично знал, что Буженинов не собирается постигать потаенные секреты ракетного искусства и не будет он разгадывать огненные загадки. Что Василий Дмитриевич велит, то он и сделает, не расспрашивая, к чему это, зачем, для чего.
Зато, когда ракетный залп готов, Степан сердится, просит, ноет, чтобы именно ему дали запал.
С треском и громом огни устремлялись в небо. Буженинов хлопал в ладоши, кричал от радости…
Василий Дмитриевич обычно поручал Степану самую простую работу: истолочь состав в ступке, либо сколотить доски для транспаранта. Дела потруднее выполнял Андрюша Лебедев.
Бомбардир по внешности был страховиден. Густая, смоляно-черная борода, крупный, красноватый нос, обожженные ручища. А глаза – ясные, с ребяческой простодушной голубинкой на дне. К Василию Дмитриевичу он относился почтительно. Лишних вопросов не задавал, сказанное запоминал крепко. Буженинова Андрюша не всегда замечал, и если тот совался под руку, досадливо сплевывал, не решаясь обругать полковника.
С утра втроем они готовили составы и делали гильзы для ракет. В мастерской темновато, крохотное оконце заткнуто куском слюды. Широкий полок заменяет верстак. Среди булыжных камней, набросанных возле чана, мешки с порохом, селитрой, углем, серой. Вкусно пахнет распаренными вениками, хотя их тут давно уже нет. Наверно, эти закопченные стены навсегда впитали дурманный дух березовой листвы и горячего дыма.
В углах стоят какие-то громоздкие деревянные, без гвоздей, «в лапу», сколоченные станки. На утоптанном земляном полу валяются обрывки картонной бумаги и льняные, туго скрученные веревки…
Ракета – начальное и важнейшее в фейерверке. Она составляет его первое и главное действие. Порох дает ей движение. Три вещества: сера, селитра, уголь – в разных сочетаниях – бесконечное разнообразие огней и красок.
Эту работу делает Корчмин: взвешивает составы, выбирает добавки, создает двойные и тройные смеси. Надо дать огню ослепительно красный цвет, бросит в тигль стронциан – серу. Пожелает взметнуть ввысь волшебное синие сияние, добавит щепоть меди. Присадит в состав немного антимония, и огонь получится бриллиантово-белый.
Любой художник позавидует фейерверкеру – такое у него богатство красок, оттенков, переливов. Да ведь и краски-то какие? Пламенные, живые летящие.
Стремительное движение огней – чарующая прелесть фейерверка. И тут у Корчмина столько придумок, не счесть. Уберет из шихты частицу угля – горение станет медленным, спокойным. Добавит опилок древесных – а всего лучше – железных – и ракета взметнет позади себя снопы искр. Измельчит уголь в пыльцу – и уже не искры, а ровное, сильное пламя прочертит воздух.
Интересно смотреть со стороны, как трудятся Василий Дмитриевич и его подручные. На долю Буженинова достается работа, требующая лишь большой силы.
- Степан, толочь надо, - говорит ему Корчмин.
Полковник, успевший основательно перемазаться в угле, спешит к ступкам. Они большие, с плотным холщовым рукавом, - один конец надет на ступку, другой на пестик. В них и селитра, и бертолетовая соль, и антимоний.
Только управится Буженинов с этими составами, Василий Дмитриевич кричит:
- Пороховой мякоти не хватает! Опять замешкался, увалень. Боишься живот растрясти?
«Увалень» - самая сильная укоризна в устах Корчмина. Он даже солдата не ругнет этим словом. Друга можно, не обидится.
Толстый Степан краснеет от натуги, пыхтит, огрызается. Он схватил юфтяной мешок с порохом, бросил его на плаху. Вскинул деревянную колотушку. Ударит. Крякнет. Корчмин торопит:
- Не готово еще? Право, увалень…
Гильзу, корпус ракеты делает Андрюша Лебедев. И как только у него хватает терпения! На круглую палку – навойник навивает грубую картузную бумагу, густо смазанную клейстером. Слой, другой, третий. Гильзу долго укатывает на дубовой доске, пока на бумаге не проглянет лоск. Теперь надо перетянуть веревкой шейку ракеты. И тут уж без Буженинова не обойтись.
Пряча улыбку в густой бороде, Андрюша зовет:
- Господин полковник…
Взмыленный Степан кидается к перетяжечному станку. Устройство станка проще простого. К столбу, врытому в землю, прилажена веревка, ею и надо охватить гильзу. Степан старается изо всех сил. Рвет гильзу. Андрюша ворчит, будто о постороннем:
- Эка, усердие-то не по разуму…
Подсовывает новую гильзу. Буженинов действует аккуратнее. Лебедев снимает ее, стягивает узелок:
- Годится.
Степан сияет, словно невесть какую важную работу сделал.
Василий Дмитриевич уже набивает накануне навитые и высушенные гильзы. Буженинов тоже склонился над верстаком, дышать боится. Андрюша рядом. Со знанием дела подвинет то ведерко с составом, то нужный инструмент.
Корчмин берет насыпку полукруглым, узким совочком – суфлой. Осторожно несет ее в гильзу и тут же уплотняет набойником. Стук-стук колотушкой. Двадцать пять раз на каждую насыпку. Новая порция, и опять стук-стук.
- Чем начинять ракету? – советуется Корчмин с Андрюшей.
- Звездки готовы, - отвечает бомбардир.
Звездки – катыши из пламенных составов, смоченные вишневым клеем и до звона высушенные на противне. Когда ракета на высоте выстрелит, звездки горящим фонтаном брызнут из нее…
Василий Дмитриевич грановитым железным шилом расчищает в гильзе сердечник. Разводит на вине пороховую мякоть и подмазывает ею гильзу.
- Степан, хвост давай!
Буженинов стоит уже наготове с сосновым коротким шестиком. Это и есть хвост. Он дает ракете красивый и плавный лёт. В зубах у Степана нарезанная бечева. Он подвязывает хвост к гильзе и осторожно укладывает ракету на широкие полати под потолком мастерской.
В мастерской света не зажигают. Не водится здесь ни свечей, ни лучины, никаких лампад. Слишком велика опасность: порох рядом. Работают при солнце, с восхода до заката. Сумерничают долго, за приятельской беседой, за чайком в солдатских котелках, принесенным из лагеря.
Это, наверно, правда, что самая крепкая дружба та, что на войне родилась. Солдат солдату – брат. Видишь в человеке слабину, пусть даже нет у тебя с ним ни в чем согласия, со многим миришься: все-таки воевали вместе, у одного костра грелись, хлеб и судьбу пополам ломали.
Война, война. Нет большей горести, чем ее начало. Нет большего счастья, чем ее конец. Особенно если между этими вехами ни много ни мало – двадцать лет! Не напрасно войну со шведами уже сейчас называют великой.
Василию Дмитриевичу хотелось создать фейерверк действительно каких не видывали. Вложить в него все радостное ощущение победы. Кому объяснишь, что ему, природному артиллеристу, куда приятнее палить потешными огнями в небо, чем ядрами в людей…
За чаем поговорили о сделанном нынче в мастерской, что получилось удачливо, а что не очень. Потом вернулись к разговору о войне, кому как довелось ее начинать.
Андрюша и Корчмин больше молчали. Говорил Буженинов. Под Эрестфером он первый ворвался в лагерь шведов, выбил шпагу из рук самого Шлиппенбаха; спас генерала только быстрый конь: вынес из боя. А под Орешком – Нотебургом – Степан со своей конной сотней перехватил батальон, который спешил из Ниеншанца на помощь осажденным, атаковал и рассеял его лавинным ударом. Буженинов вскочил на ноги, стал показывать, как рубил саблей, с плеча, с оттяжкой.
В увлечении он утверждал, что едва ли не все сражения выигрывала кавалерия и что даже Шлиссельбургская крепость была взята чуть ли не конным натиском.
Корчмин отлично знал, что почти все рассказанное Бужениновым – правда. В бою он до дерзости смел. Это так. Но что он городит про штурм крепости?
- Погоди, Степа, - останавливает его Корчмин, - как же ты на коне через реку, через быстрину сунулся?
Буженинов почувствовал насмешку. Даже в вечерней темноте видно было, как кровь прихлынула к лицу.
- Так что же, - завопил Степан, - уж не твои ли пушкари взяли неприступнейший Нотебург?!
- Конечно, пушкари решили исход штурма, - спокойно заметил Василий Дмитриевич.
- О господи, - взмолился полковник, - так ведь всем ведомо, что вы даже не сумели настоящую брешь в стенах пробить.
- А кто сжег крепость? Кто прикрывал ядрами штурмовую флотилию? Конница?
У возмущенного Степана не хватило слов ответить на эти вопросы. Он совсем побагровел, задыхаясь от негодования. Наконец махнул рукой. Схватил мундир. Не развязал, оборвал повод, вскочил в седло и огрел плетью коня. Копыта прогрохотали по прибрежной дороге, вверх по Неве.
Корчмин и Вндрюша молча переглянулись и заговорили о завтрашней работе. Но Василий Дмитриевич все не мог отрешиться от мыслей, которые всколыхнул так внезапно оборванный разговор.
Над селом густыми запахами разнотравья веяла звездная ночь. В лагере горнист играл отбой, звуки трубы взмыли среди темноты и угасли. Лес клонился под ветром.
Немногие знали, что Василий Дмитриевич начинал войну здесь же, в этом сельце, близ Усть-Ижоры. И начинал он ее задолго до того, как проревели первые мортирные залпы.
Тогда казалось: владычеству шведов в невском поморье конца не будет. Появился здесь никому не известный русский купец. Он торговал железом, покупал на переплав старые пушки. Но не брезговал и коноплей, и дегтем, и рожью. По своему добродушному нраву, по широкой щедрости он быстро вошел в доверие к шведам. Его можно было встретить не только на торгу, но еще чаще в крепостях, в приневских больших городах. Знали о нем, что жительствует он в Усть-Ижоре, а дела ведет по всему краю от Корелы до Ругодева.
Это и был Василий Корчмин, смелый российский разведчик, «детина неглупый», как о нем отзывался Петр. Корчмин примечал, сколько пушек на крепостных башнях и как укреплены боевые валы и стены. Промерял глубину Невы и ее притоков. Запоминал дороги от города к городу.
Петровская гвардия начинала поход по картам, составленным Корчминым. Боевые ладьи плыли по фарватерам, проложенным им же.
Едва объявили войну, Василий Дмитриевич сбросил с плеч купеческую поддевку, чтобы рыть шанцы на невских берегах, ставить батареи. Командовать огнем.
Не один шведский офицер, встретясь в баталии лицом к лицу с этим статным бомбардиром, с удивлением узнавал в нем добродушного торгаша, который, казалось, ничем, кроме денег, особенно не интересовался.
Так сложилась судьба солдатская. В этом селе Корчмин начинал войну. Здесь ее и заканчивает…
Будто издалека донесся до Василия Дмитриевича голос Лебедева. Не сразу понял, о чем говорит Андрюша. Он спрашивал: хватит ли на завтра пороха и какие патроны готовить? Помедлив, Корчмин ответил: пусть затребует из Петербургской крепости мешок мелкозернистого, а патроны нужны двухфунтового калибра.
* * *
В мастерской началось самое трудное: выбор и испытание огневых фигур. Нет предела для фантазии настоящего фейерверкера. И тут уж никто не мог сравниться выдумкой, остроумием, смелостью с Лебедевым. Корчмин давал ему полную свободу действий. Старался не мешать. Лишь время от времени советовал, изредка поправлял.
В такие дни Андрюшкино лицо приобретало выражение мечтательное. Голубые глаза мягко светились. Он отходил от вседневных забот, весь поглощенный полетом, сплетениями, вспышками и угасанием огней.
Лебедев делал какие-то мудреные шлаги – трубки, набитые зерненым порохом. Они в точно рассчитанное время давали на высоте выстрел, рассыпаясь каскадом огней. Он придумывал невероятные фонтаны, которые охватывали едва ли не весь горизонт ярким сиянием.
Среди лебедевских фигур особенно славились «жаворонки», или «кубари», которые взлетали отвесно вверх, быстро вертясь по оси. Не менее примечательны были «пчелки», коими начинялись ракеты; при взрыве они разлетались с жужжанием пчелиного роя. А знаменитые лебедевские «нырки»? это низовая фигура. Она летала не в воздухе, запускалась на воде. Кружилась, ныряла и снова появлялась на поверхности. Казалось, что она не только сама горит, но зажигает речное зеркало…
Мелкие фигуры строить легче. Труднее давались тяжелые люцкугели. Над каждым Андрюша работал недели две. По виду это было обыкновенное пушечное ядро. Только вблизи можно разобрать, что оно не чугунное, а деревянное, оклеенное бумагой и холстом. Лебедев нарезал бумагу и холст длинными полосами, наклеивал их слой за слоем. Сквозь ядро прокладывал деревянную трубку, набивал ее серой, селитрой, пороховой мякотью.
Кажется, все делалось правильно, по порядку, не раз проверенному. Но Корчмин и Лебедев были недовольны. Ядро взрывалось, хотя и с громовым грохотом, однако без надлежащей красоты. Огонь угасал, едва успев разгореться. Фейерверкеры пробовали то дубовые, то беоезовые сердечники для люцкугелей, пробовали разные пороховые заряды, смешивали заново селитренные составы.
В разгар работы, в неудачливый день, когда думалось, что упрямое деревянное ядро так и не удастся сладить, в мастерской снова появился Степан Буженинов. Он был добродушен, весел, всем своим видом показывал, что никогда ни с кем не ссорился, а если и случилась размолвка, то он ее прочно забыл. И в мастерской, как это и раньше бывало, ему не напоминали о споре.
Полковник-подручный принялся за привычную работу, словно не прерывал ее. Стоило Лебедеву сказать: «Господин полковник» или Корчмину попросить: «Подсоби, Степа» - и он носил мешки, молотил кувалдой по клиньям, таскал кипы бумаги.
Люцкугели все не нравились Василию Дмитриевичу. Андрюша измучился, отесывая сердечники, его уже тошнило от запаха клея. Придирчивость друга сердила Буженинова. Наконец он все-таки не выдержал, заорал:
- Какого тебе еще рожна надо?
Но тут же осекся. Корчмин мог в два счета выставить его из мастерской.
Андрюша постарался неудачу с «чертовым ядром» - иначе он его теперь не называл – возместить другой придумкой: вертячим колесом. Это была уже не одна фигура, а сочетание нескольких.
Лебедев выгнул лубок обечайкой. И другое колесо выгнул, чуть поменьше. Накрыл их светящейся бумагой с петровским вензелем. Колеса были по кругу обнесены ракетами. Всю фигуру замкнул в восемь звезд, в центре каждой – фонтанная ракета.
Когда фейерверкер вздел колеса на железную ступицу, утвержденную на столбе, когда сгорели ракеты одного колеса, и от последней запылало второе, и фонтаны высоко ввысь плеснули алое пламя, Корчмин обнял своего помощника:
- Одно слово – умен. Голова – палата.
Большое дело – оно, как высокая лестница. Поднимешься со ступени на ступень. Чем выше – труднее. Фейерверк – не просто огонь, не просто полет. Это настоящее театральное действие, сотканное из огня. Действие немногословное, но оно должно запасть в душу человека и тысячи людей объединить одной мыслью*. (*В наше время мы могли бы сказать, что старинные фейерверки прекрасно служили целям наглядной агитации. Девизы фейерверка – политические лозунги. Не случайно фейерверк как народное праздничное зрелище был возрожден в последние годы Великой Отечественной войны. Им отмечались победы наших войск. Грандиозным фейерверком вместе с салютом из тысячи пушек была отпразднована победа советского народа над гитлеровской Германией.)
Как же создается такое действие? Как нарисовать картину летящую, пламенную?
Корчмин и Лебедев на своем боевом веку немало сделали и еще больше видели потешных огней. Опыт нескольких поколений фейерверкеров и их собственный опыт учил простой мудрости, выраженной Андрюшей в скупых словах:
- Тут первое дело – фитили, а второе дело – пирамидные свечи.
Фитили варили и пропитывали поодаль от мастерской, на речном берегу. Вот уж это была настоящая адова кухня с котлами, горячими углями и кипящей серой.
Буженинов вил льняные веревки в сажень длины. Андрюша растапливал горючие составы и опускал в них веревки. Варил их на несильном огне. Доставал железными крюками и протаскивал через кожаную рукавицу. Так дважды. Потом, поддев на щетинную кисть тертого пороха, подмазывал им фитиль.
Подбором смесей фитили делались трех цветов: синие, желтые или белые. Ими обносился контур картины – плана.
Были еще фитили скорострельные и палительные. Их снаряжал Василий Дмитриевич. Скорострельный – из пряденной в одну нитку хлопчатой бумаги. Варился с селитрой и водой.
Прикрываясь ладонью от дыма и резкого запаха, Корчмин следил за бумагой. Как только она начнет тонуть, вытащит. Затем оставалось только просушить ее и напитать порохом. Бумагу скатывал ладонью, навивал на деревянную вьюшку.
Палительный фитиль – чисто льняной. Корчмин каждый вершок проверял на ощупь, не попала бы костричка. Навострившийся на этом деле Степан вил лен в три пряди. Потом варил его в щелоке из козельской золы.
Фитиль насыщал порохом Василий Дмитриевич. Тут очень важно было до каждой секунды рассчитать скорость горения. Чуть промедлить – и фигура загорится слишком поздно, выпадет из задуманного действия.
Составы, длину фитилей и время Корчмин записывал в особый табель.
Фитилями рисовались на фейерверочной картине штрихи контурные, крупные, размашистые. Штрихи помельче рисовались пирамидными свечами. Делались они просто: скатывались из бумаги в два ряда. Деревянным набойничком в них уплотняли смесь.
В мастерской накопился порядочный запас готовых фитилей и свечей. Тогда Андрюша спросил Василия Дмитриевича:
- Попробуем?
Недурно рисовавший Корчмин углем набросал на плане – широком дощатом щите – величественное здание с колоннами и античным портиком. По углю обнес контуры фитилем. На том же щите, тем же угольком Василий Дмитриевич нарисовал цветущий сад: деревья с пышными кронами, под их тенью – беседка. Этот рисунок он обозначил длинными гвоздями; к каждому привязал пирамидную свечку. Соединил их скорострельным шнуром. Получилось два рисунка, один над другим.
Все готово и еще раз проверено.
- Начинай! – велел Корчмин.
Андрюша зажег скорострельный шнур. Запылали свечи. Мгновенно возник огненный сад. Возник и через несколько минут угас. Но от последней свечи загорелся фитиль первого рисунка. Пламя тотчас очертило храм с колоннами.
Корчмин и Лебедев, весело гогоча, бежали к щиту. Швыряли в него песок, ведрами лили воду, чтобы не загорелись доски. Не замечали ни ожогов, ни сажи, размазанной по лицу.
- Получается? – спросил Андрюша.
- Кажется, получится, - осторожно ответил Василий Дмитриевич.
* * *
Это был последний боевой день в жизни бомбардира и фейерверкера Лебедева.
Пробы составов и ракет делались в темные осенние вечера. Нередко, если что-нибудь не ладилось, они продолжали всю ночь напролет. Только утренняя заря, при которой огни теряли свои истинные оттенки, заставляла кончать работу. В таких случаях Василий Дмитриевич мрачно говорил:
- Все. Ставь пушки на колеса.
Это обычная артиллерийская команда, означающая отход, перемену позиции. Но сейчас она подавалась только по привычке. Ни пушек, ни колес здесь не было.
Ракеты запускались с деревянных станков, таких простых, что даже не верилось, что вот тут, на земле рождается огненное великолепие, летящее в небо.
На невысоких деревянных ножках лежали бруски с железными скобами. К ним подвешивались ракеты. Небольшой дощатый навес оборонял зажигальщиков от падающих ракетных хвостов.
На осенних пробах главным зажигальщиком был Буженинов. Он не обращал ни малейшего внимания на сосновые чурки, со свистом прорезавшие воздух. Грохот взрывов словно подстегивал его. В плотной ночной тьме Степана не разглядеть. Видно только, как запальник в его руках описывает крутые дуги.
Корчмин и Лебедев стояли поблизости, на холме, стараясь охватить взглядом всю возникающую картину. Нет, они не любовались прекрасным зрелищем. Для этого не хватало времени. Красота представлялась им расчлененной на вершки и аршины, на лоты и фунты.
Громко, чтобы быть услышанным за треском ракетной пальбы, Василий Дмитриевич кричал Андрюше перемены в расстояниях между фигурами и в соотношениях пламенных смесей. Следовало то ускорить полет, то замедлить, придать огню рассыпчатость фонтанной струи или, напротив, длинной жаркой лентой захлестнуть горизонт.
В эту ночь долго не удавались «павильоны». Ими обычно завершается фейерверк. В «павильоне» ракеты одна за другой зажигаются в воздухе, в полете. Тут учитывалось все: точность выстрела, сила заряда, мастерство запуска. Василий Дмитриевич измучился сам и загонял своих подручных. Буженинов уже не бегал. А плелся от станка к станку. Он надеялся только на то, что наконец-то расстреляют все пробные ракеты и Корчмин велит «ставить пушки на колеса».
Но ракет хватало. И они никак не зажигались вовремя. Вернее, зажигались, да не те, какие нужно, и не в нужное время, чуть позже или чуть быстрее.
- Увалень! – в ярости потрясал кулаками Василий Дмитриевич. – Увалень!
Вдруг случилось непредвиденное. Как раз когда «павильон», рассыпая огни, проносился по воздуху, одна из несгоревших ракет упала на люцкугель, наполовину зарытый в землю. Трубка затеплилась неярким огнем.
Первым заметил беду Лебедев. Он в два прыжка очутился около ядра, схватил его, вырвал из земли, хотел отбросить, но запутался в фитилях.
В темноте Корчмин не мог разглядеть, но он точно помнил, что поблизости лежат пороховые запалы.
- Бросай! – отчаянно крикнул он Андрюше.
Люцкугель разгорался. Бомбардир вместе с ним подвигался все дальше в сторону от запалов.
Тогда Корчмин, на бегу вытаскивая нож из кожаных ножен, двинулся к Лебедеву. Он увидел Василия Дмитриевича рядом и перекошенным от боли ртом выкрикнул:
- Скорей, скорей уходите!
И сделал еще шаг от запалов. Но Корчмин понимал, что бомбардиру уже не уйти от опасности. Василий Дмитриевич ножом перерубил затлевшие фитили, выхватил люцкугель из рук Андрюши. Только успел скатить ядро под береговой откос, оно плеснуло огнем, высоко вскинуло песок и воду.
Корчмин разорвал на себе рубаху, перетянул жгутами обгоревшие, кровоточащие руки Лебедева. Степан успел сбегать в лагерь. Он вернулся на повозке. Коней гнал вскачь, крутя над головой вожжами.
Весь остаток ночи, в лазарете, Корчмин не отходил от бомбардира. Пока в соседней комнате лекари готовили стол и ножи, Лебедев, глядя на свои забинтованные культи, грустно говорил:
- Какой уж я солдат без рук? Отвоевал.
* * *
Над подготовкой фейерверка работали теперь сотни людей. Весь Усть-Ижорский лагерь был занят склеиванием и сушкой ракет. Две бомбардирские роты в столице начиняли их, ставили запалы. Лучшие художники и архитекторы Петербурга придумывали транспаранты, ход и чередование огней.
Но что бы они ни придумали, какие блистательные фигуры ни сочинили бы, все, решительно все началом своим уходило к баньке на краю недальнего села, к огневой мастерской Корчмина, где ракеты опробовались впервые.
Юный, восемнадцатилетний, Санкт-Петербург, город у моря, праздновал победу.
В Ништадте подписан мирный договор. Швеция торжественно и клятвенно признала, что отвоеванные петровской армией земли «имеют вечно Российскому государству присоединены быть и пребывать».
На Троицкой – главной площади Петербурга – с утра толпился народ. Тут были и солдаты в выцветших и пропыленных мундирах, и плотники с топорами, заткнутыми за пояс, - сегодня уж им не работалось. Матросы с парусников, бросивших якоря у Мытных причалов, ходили в обнимку и горланили песни. Двери лавок в брусчатом Гостином дворе были распахнуты настежь. Сидельцы зычно предлагали свои товары «в светлый день по дешевке». Румяные поварихи вынесли на улицы пышущие жаром противни с блинами, сочнями, гречневиками.
В соборе звонили колокола. У царевой хаты, сложенной из тесаных сосновых бревен и раскрашенной под кирпичную кладку, стояли на карауле преображенцы. Рослые усачи. Хоть и праздник, а суровы, неулыбчивы. Багинеты примкнуты к ружьям.
На крепостном плацу Петр раздает награды солдатам. Кому рублевик старой чеканки, кому денежка. Петр бледен. Он в лосином сюртуке поверх вязаного жилета. Башмаки в грязи, чулки штопаные. Звание «отца отечества» дал ему нынче сенат.
- Здравствуйте и благодарите бога, - говорит Петр; он с приметным усилием одолевает судорогу, ломающую губы, - дарован нам вечный и счастливый мир!
Ударили пушки на крепостных стенах. Двадцать семь полков открыли беглый огонь. В городе зажгли смоляные бочки.
Но настоящий праздник начался вечером, когда сумерки легли на город и по-осеннему студеную Неву.
В залах сената, где были накрыты праздничные столы, душно. Плавает свечная копоть. Табачный дым ест глаза.
Петр тронул оконную раму, она не поддавалась. Зычно окликнул:
- Стенька!
Буженинов подбежал. Налег плечом и выворотил окно вместе с наличником.
- Вели начинать, - сказал Петр.
И тогда все стихло. «Господа сенат» столпились у окон. Народ на площади смотрел в беззвездное небо.
Казалось, весь город замер в ожидании. Темнота плотная, густая, хоть ножом режь. Все ждали треска, грохота, обычных при фейерверках. Но тишина и ночь длились долго.
Вдруг со стороны крепости в полном безмолвии приплыло светящееся облако, остановилось и развернулось, ширясь и разрастаясь. Все увидели изображение огромного здания с колоннадой и распахнутыми воротами. Цветные фитили ярко горели на обводах. Пестрые шкалики пылали по краям.
Пожилой приказный в меховом полукафтане объяснял в толпе:
- Сие храм Янусов… А вот и сам Янус…
Древний бог времени держал лавровый венок и масличную ветвь. Несколько мгновений картина оставалась неподвижной. Но вот на галерее сената Петр факелом зажег фигуру орла с распростертыми крыльями. Он полетел в небо, и на главной декорации фейерверка затеплилось голубое сияние. Появились два рыцаря в бранных доспехах. На щите одного – двуглавый орел, на щите другого – три короны. Они обменялись рукопожатием. И в этот миг ворота Янусова храма закрылись – знак окончания войны.
На площади сдернули парусину с жареного быка, лежащего на помосте. Петр шпагой отрубил первый кусок. Заиграли струями два фонтана с вином.
Тем временем в небе угасли звезды, и как бы отступила сама ночь. Все ярче разгорались огни пламенного действа. Справа от храма Януса загорелся фитильный щит с изображением Правосудия. Оно попирало двух фурий – ненавистников России. Огненная надпись гласила: «Всегда победит». На втором щите, слева от храма, появился корабль с парусами, полными ветра. Он плыл в гавань под латинской надписью: «Finis coronat opus!»
Тот же словоохотливый приказный в толпе перевел:
- Конец венчает дело!
Громовой удар потряс берега и всколыхнул воды в Неве. Шесть тысяч ракет, рассыпая искры и завивая огненные шлейфы, взмыли в небо. В реке необозримыми стаями резвились «низовые фигуры» - дукеры, нырки, квекеры. Они погружались в глубину, бороздили простор, крутились юлой. Огни отражались в брызгах, как в хрустале. Пирамидами поднялось алмазно-белое сияние. Над ним замерцали две крупных звезды. Вертящиеся колеса, фонтаны, шары, швермеры рассыпали разноцветные огни. Одни угасали, чтобы уступить место другим, еще более ярким. Тысячи сияний, и каждое неповторимо!
Два часа, два полных часа до полуночи громыхал, пламенел, падал и снова устремлялся в поднебесье фейерверк.
Чередованием фигур и запуском «павильона» распоряжался Буженинов. Молодцеватый, в семеновском мундире с парадными, шитыми кантом обшлагами, с трубкой в зубах, он покрикивал на плотников, убиравших отгоревшие щиты. Полковник степенно кланялся, когда его поздравляли с удачей и редкой красотой потешных огней.
Василий Дмитриевич все время был среди фейерверкеров, на линии пусковых станков. Его никто не поздравлял. Но если запаздывал каскад, если сложная фигура не умещалась на крюках, денщики сбивались с ног:
- Где Корчмин?
Запенившимся ртом Петр кричал:
- Ва-асилий!
Троицкая площадь перекликалась тысячами голосов, топотала, горланила, пела. Фейерверкеры, не спавшие несколько ночей подряд, могуче храпели, растянувшись у своих станков. Они улеглись на тулупах, брошенных на скованную первым морозцем землю.
Василий Дмитриевич нашел Буженинова в палатке офицеров гвардейского караула. Не слишком церемонясь, вытащил его из-за стола:
- Сделай милость, поедем со мной, Степан.
Полковник, привыкший повиноваться Корчмину, ежась от холода, беспрекословно пошел за ним к коновязи.
Два всадника, шпоря коней, вымчались на Шлиссельбургский тракт. Только тут Степан понял, куда они едут.
Миновали Усть-Ижору. У дверей старой баньки Василий Дмитриевич соскочил с коня и расстегнул седельную сумку. Он вытащил из нее флягу с хлебным вином, нацеженным из фонтана на Троицкой площади, и кусок мяса, отрезанный там же от праздничного быка и наскоро завернутый в пороховой картуз.
На оклик в мастерской никто не ответил. Корчмин встревожился. Он знал, что сегодня должны были отпустить из лазарета Андрюшу Лебедева. Но в баньке – тишина, темень. Стало тревожно на душе. Вспомнилось, что лекари все время опасались «антоновой лихомани». Неужели все-таки случилось страшное?..
С порога Василий Дмитриевич разглядел среди деревьев на береговом холме одинокого, ссутулившегося бомбардира. Обрадованно подбежал к нему:
- Вот ты где. Эка ты карболкой-то пропах.
Сквозь темноту вгляделся в его лицо. Оно веселое. Конечно, бомбардир и не думает брататься с курносой.
- Два часа смотрел я отсюда, - проговорил Андрюша, - на зарево над Питером. То ведь наши огоньки горели, Василий Дмитриевич. Знатно полыхали.
В мастерской расчистили место на верстаке. Корчмин торжественно разложил привезенные подарки. Андрюша крякнул от удовольствия. Но самому управиться со всем этим добром ему было трудновато.
Василий Дмитриевич резал мясо кусками. Полковник умело и очень ловко подносил их ко рту бомбардира. Каждый был занят своим делом.
Ночь закончилась вполне миролюбиво, без спора. Но Корчмин вдруг спросил Андрюшу:
- Приходилось тебе думать, какими станут ракеты при наших правнуках?
- Конечно, думал, - честно ответил бомбардир, - но непостижимо сие уму моему.
Степан сразу вспыхнул, как пороховой заряд:
- Потешный огонь, - и все тут. Назначен он веселить людей…
- Нет, не скажи, - прервал Василий Дмитриевич, - нам, служивым бомбардирского наряда, сторонне судить заказано.
- Бесконечно мудруешь, - укорил Степан, - я же смотрю так: вот запал, вот порох, вот гильза. Пали и любуйся прекраснейшим зрелищем.
Корчмин явно не хотел ссориться. То, о чем он думал, было неизмеримо выше, ну просто никак не вязалось с перебранкой. Он повернулся к Лебедеву:
- Иное видится мне. Ведь ракета – то же ядро. А летит без пушки… Не в том ли будущее всего нашего огневого мастерства?..
В оконце глянул рассвет. Сначала просветлело небо над верхушками сосен. Потом плывущие по реке льдинки заиграли фиолетовыми бликами.
По первопутку прибрежьем шел пороховой обоз. Село на Неве именовалось то по лагерю – Солдатским, то по церковному приходу – Вознесенским.
Но возчики называли его совсем по-иному. Они знали, что везут боевой припас Корчмину. По нему и за селом утвердилось прозвание Корчмино*. (*Имя это сохранилось поныне.)
В хатах топились печи. Несильный, но порывистый ветер прибивал дым к земле.

1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: